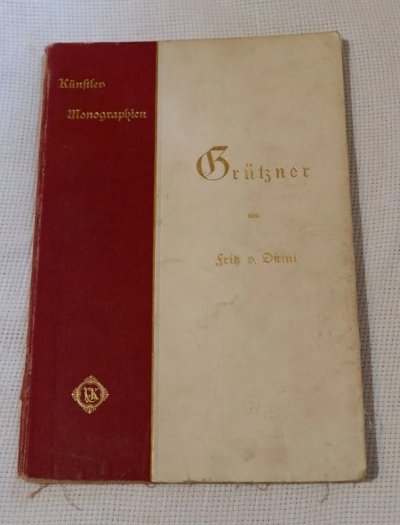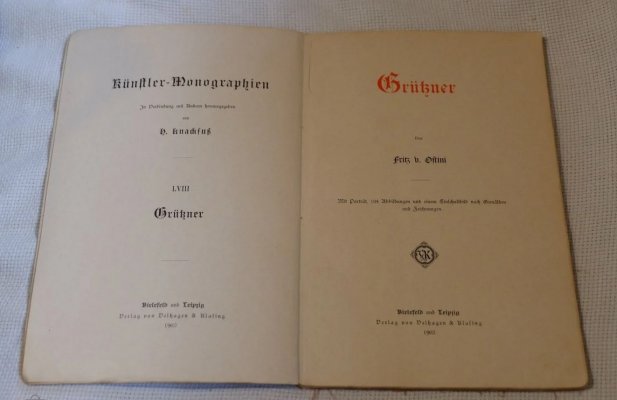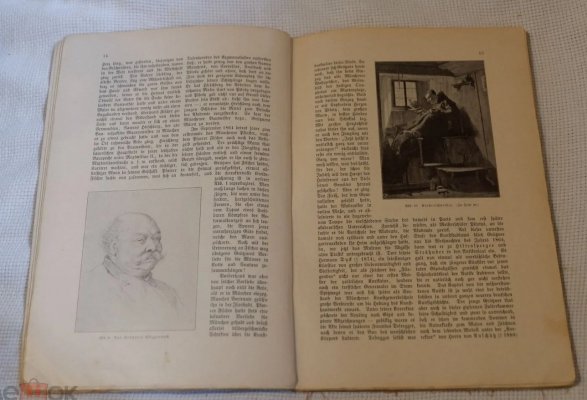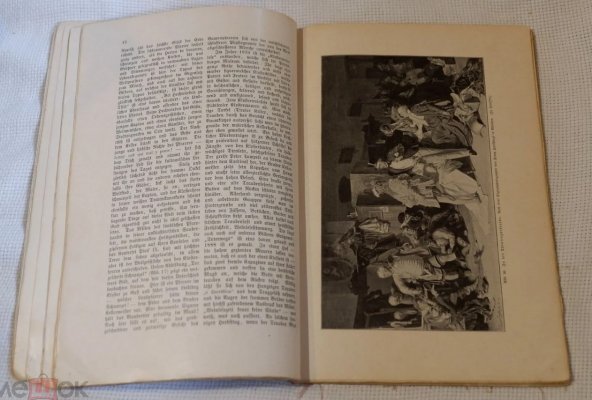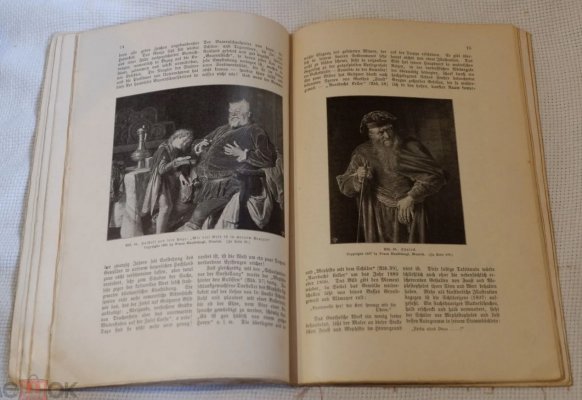Андрей Пустоваров
Супер-Модератор
На мой взгляд , очень интересный человек.. Но уже, увы, история..
Аркадий Ипполитов: «Рабочий прогресс — когда ты разучиваешься общаться с внешним миром и у тебя растет задница»
Искусствовед и куратор не только выпустил свой opus magnum — книгу «Якопо да Понтормо. Художник извне и изнутри» о живописце-маньеристе, творчество которого он изучал долгие годы, но и открыл в Третьяковской галерее выставку-блокбастер «Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо».
Как вам удалось реализовать два масштабнейших проекта за один год?
Трудно было, поэтому сейчас мне кажется, что книга вышла давным-давно, столько сил и нервов отняла подготовка к ватиканской выставке в Третьяковской галерее. Думать нужно было быстро — стояла задача собрать ее за один год. Я продумал опорную ось, что мы представим именно Рим, так родился общий замысел экспозиции: в одном зале с Фра Беато Анджелико, Эрколе ди Роберти и Джованни Беллини был показан Рим ренессансный, очень своеобразный и в какой-то мере камерный город, а барочный Рим, возрождающий во всем блеске идею имперского Вечного города, с крупноформатными полотнами Караваджо, Пуссена и Гвидо Рени, разместился в главном зале, спланированном как площадь перед собором Святого Петра. В самом конце маршрута серия Донато Крети «Астрономические наблюдения» ставит точку в развитии барокко.
Кто занимался оформлением, обеспечивая логику выставки и ее контрапункты развеской, цветами стендов, планами залов?
Я формулирую концепцию и порядок развески, но бывает, что дизайнеры предлагают блестящие решения. Так случилось с «Шедеврами Пинакотеки Ватикана» в оформлении архитектора Сергея Чобана. Идеи, усложнявшие выставку, в том числе и с финансовой точки зрения, были приняты и одобрены директором Третьяковской галереи Зельфирой Трегуловой. Более того, она приложила все усилия, чтобы они были реализованы максимально точно и качественно. Такая выставка — не работа одного человека, а сложная командная история.
Когда вам предложили этот проект, вы испытали что-то, похожее на восторг ребенка, оказавшегося на кондитерской фабрике?
Никакой радости я не почувствовал. Первым ощущением был страх, что обделаешься, не сможешь соответствовать. Сжав зубы, нужно было делать дело. Да, можно было запросить многие шедевры, но дадут ли их — в этом был вопрос. Поэтому мы с Зельфирой Трегуловой сначала обсудили тактику: не быть слишком наглыми. Сразу договорились, что не будем просить Леонардо да Винчи. С другой стороны, нужно было составить список побольше, чтобы дали хоть и поменьше, но зато первоклассных работ. Сами переговоры с дирекцией Ватикана прошли легко — мы получили практически все, что хотели, концепция сохранилась неизменной, а выставка оказалась страшно успешной.
Вы испытали страх из-за чувства ответственности?
Да, и не могу сказать, что после открытия наступило облегчение. Я ненавижу вопрос, который, к сожалению, сам задаю многим людям, авторам того или иного события: «И как, вы довольны?» Понятно, что нет, ведь тебе видны в основном недостатки твоего труда, поэтому любая похвала, даже если ты в нее не веришь, тебе очень нужна.
Об искусстве часто говорят либо сухо и скучно, либо очень сложно и не по делу
На выставке были работы маньеристов, одному из которых посвящена ваша книга «Якопо да Понтормо. Художник извне и изнутри»?
Практически нет. В Ватикане далеко не лучшее собрание этого короткого и очень особенного периода развития западноевропейского искусства, начавшегося в 1520-х годах и уже через сто лет полностью сошедшего на нет. Сейчас я занят подготовкой выставки гравюр маньеризма в Таллине и пишу к ней вступительную статью о том, что в ХХ веке о маньеризме стали говорить слишком часто, имея в виду яркие и опасные проявления искусства, что слово это превратилось в метафору изящной бабочки с яркой расцветкой, которая при этом сигнализирует: «Не трогай меня, я ядовитая!» Появилось множество маньеризмов. Но есть один подлинный, которым я и занимаюсь.
Как вы узнали про это направление, учитывая, что в России оно никогда не было особенно известно?
Когда в глухом Советском Союзе в свои четырнадцать лет я встретился с историей искусств, то обнаружил, что маньеризм — ругательное слово. Поэтому я и решил заниматься только им. Мой диплом должен был называться «Иконография золотого века в эпоху маньеризма», но мне запретили, заменив «маньеризм» на «итальянское искусство XVI века».
Чем так пугало это слово работников культуры СССР?
Ядовитостью, которая в нем заключена. Маньеризм антиклассичен, соответственно, нездоров, декадентен, а социалистическому обществу декаданс был чужд.
Понятно, что для юного человека в этом были вызов и определенный снобизм. Когда плод перестал быть запретным, вы не разочаровались?
Не то чтобы разочаровался. Скорее, охладел. Маньеризм уже не так меня тревожит, как раньше. (Смеется.) Но Понтормо гений. Он просто большой художник, хоть маньеристом назови его, хоть нет. И он продолжает оставаться моим любимым.
Вашу книгу может читать как тот, кто ничего не знает о Понтормо, так и тот, кто вопросом интересуется, и такой пластичный текст для искусствоведческой литературы редкость. Как вы над ней работали?
Моя книга не архивная, а кабинетно-литературная. Я так ее и задумывал, в том числе нашел ход с интертекстуальностью. Я стараюсь писать доступно и по своему опыту вижу, что заинтересовать читателя можно. Об искусстве часто говорят либо сухо и скучно, либо очень сложно и не по делу, так что и слушать неохота, и смотреть становится тошно. Я недавно двенадцатилетних детей водил по Эрмитажу, и они меня спросили, почему у всех святых такие постные лица. Я подумал, что о культуре мы говорим по большей части именно с такими лицами.
В своей книге «Якопо да Понтормо. Художник извне и изнутри» Аркадий Ипполитов подробно комментирует два текста: главу о Понтормо из «Жизнеописания прославленных живописцев, скульпторов и архитекторов» Джорджо Вазари и короткие дневниковые записи самого художника, начатые им за три года до смерти.
А что вы ответили, кстати?
Стали разбирать картины, и оказалось, что постные лица далеко не у всех. На иконах такое выражение — признак отрешенности и отвлеченности, зато обратите внимание, какие хулиганистые ангелы есть в Ренессансе и барокко.
В конце прошлого года вы поучаствовали в создании еще одной книги: для сборника эссе кинокритика Александра Тимофеевского «Весна Средневековья» в издательстве «Сеанс» вы выступили бильдредактором, сопроводив тексты иллюстрациями из живописи.
Да, более того, скоро будет второй том. Это очень тонкая книга о кино, я ее всем советую прочитать. Работа была сложная, но кинематограф всегда был моим параллельным увлечением. Кстати, автор одной из самых эпохальных монографий о маньеризме Арнольд Хаузер был, в первую очередь, специалистом по кино. К тому же с Тимофеевским, как и с основателем журнала «Сеанс» Любой Аркус, меня связывает личная дружба, кстати, она первый человек, заказавший мне печатный текст — он был о кино.
Изменились ли со временем ваши кинематографические вкусы? Что повлияло на ваш визуальный опыт?
Мои самые любимые фильмы — бунюэльевское «Скромное обаяние буржуазии», «Большая жратва» Марко Феррери и, конечно, «Повар, вор, его жена и ее любовник» Питера Гринуэя, трахнувший когда-то меня по мозгам. Мне страшно нравится обращение с культурой этого режиссера, он был абсолютнейшим образцом для меня. Его старые выставочные проекты до сих пор вызывают у меня полный восторг, и хотя в фильмах я стал сильно чувствовать его занудство, мне они все равно нравятся. «Ночной дозор», «Рембрандт. Я обвиняю!» и «Гольциус и Пеликанья компания» просмотрены не один раз. Конечно, вкусы меняются: как-то в детстве я увидел документальный фильм о Венеции, перевернувший мое сознание. Я смотрел его, наверное, столько же раз, сколько и «Скромное обаяние буржуазии». Но когда недавно я его снова нашел, то он не произвел уже никакого впечатления, я просто не смог его увидеть теми глазами. Знаете, в коммунальной квартире, где я рос, соседка-бухгалтерша тетя Лена ходила в «бриллиантовой» диадеме, и я ее считал самой прекрасной в мире.
Аркадий Ипполитов: «Рабочий прогресс — когда ты разучиваешься общаться с внешним миром и у тебя растет задница»
Искусствовед и куратор не только выпустил свой opus magnum — книгу «Якопо да Понтормо. Художник извне и изнутри» о живописце-маньеристе, творчество которого он изучал долгие годы, но и открыл в Третьяковской галерее выставку-блокбастер «Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо».
Как вам удалось реализовать два масштабнейших проекта за один год?
Трудно было, поэтому сейчас мне кажется, что книга вышла давным-давно, столько сил и нервов отняла подготовка к ватиканской выставке в Третьяковской галерее. Думать нужно было быстро — стояла задача собрать ее за один год. Я продумал опорную ось, что мы представим именно Рим, так родился общий замысел экспозиции: в одном зале с Фра Беато Анджелико, Эрколе ди Роберти и Джованни Беллини был показан Рим ренессансный, очень своеобразный и в какой-то мере камерный город, а барочный Рим, возрождающий во всем блеске идею имперского Вечного города, с крупноформатными полотнами Караваджо, Пуссена и Гвидо Рени, разместился в главном зале, спланированном как площадь перед собором Святого Петра. В самом конце маршрута серия Донато Крети «Астрономические наблюдения» ставит точку в развитии барокко.
Кто занимался оформлением, обеспечивая логику выставки и ее контрапункты развеской, цветами стендов, планами залов?
Я формулирую концепцию и порядок развески, но бывает, что дизайнеры предлагают блестящие решения. Так случилось с «Шедеврами Пинакотеки Ватикана» в оформлении архитектора Сергея Чобана. Идеи, усложнявшие выставку, в том числе и с финансовой точки зрения, были приняты и одобрены директором Третьяковской галереи Зельфирой Трегуловой. Более того, она приложила все усилия, чтобы они были реализованы максимально точно и качественно. Такая выставка — не работа одного человека, а сложная командная история.
Когда вам предложили этот проект, вы испытали что-то, похожее на восторг ребенка, оказавшегося на кондитерской фабрике?
Никакой радости я не почувствовал. Первым ощущением был страх, что обделаешься, не сможешь соответствовать. Сжав зубы, нужно было делать дело. Да, можно было запросить многие шедевры, но дадут ли их — в этом был вопрос. Поэтому мы с Зельфирой Трегуловой сначала обсудили тактику: не быть слишком наглыми. Сразу договорились, что не будем просить Леонардо да Винчи. С другой стороны, нужно было составить список побольше, чтобы дали хоть и поменьше, но зато первоклассных работ. Сами переговоры с дирекцией Ватикана прошли легко — мы получили практически все, что хотели, концепция сохранилась неизменной, а выставка оказалась страшно успешной.
Вы испытали страх из-за чувства ответственности?
Да, и не могу сказать, что после открытия наступило облегчение. Я ненавижу вопрос, который, к сожалению, сам задаю многим людям, авторам того или иного события: «И как, вы довольны?» Понятно, что нет, ведь тебе видны в основном недостатки твоего труда, поэтому любая похвала, даже если ты в нее не веришь, тебе очень нужна.
Об искусстве часто говорят либо сухо и скучно, либо очень сложно и не по делу
На выставке были работы маньеристов, одному из которых посвящена ваша книга «Якопо да Понтормо. Художник извне и изнутри»?
Практически нет. В Ватикане далеко не лучшее собрание этого короткого и очень особенного периода развития западноевропейского искусства, начавшегося в 1520-х годах и уже через сто лет полностью сошедшего на нет. Сейчас я занят подготовкой выставки гравюр маньеризма в Таллине и пишу к ней вступительную статью о том, что в ХХ веке о маньеризме стали говорить слишком часто, имея в виду яркие и опасные проявления искусства, что слово это превратилось в метафору изящной бабочки с яркой расцветкой, которая при этом сигнализирует: «Не трогай меня, я ядовитая!» Появилось множество маньеризмов. Но есть один подлинный, которым я и занимаюсь.
Как вы узнали про это направление, учитывая, что в России оно никогда не было особенно известно?
Когда в глухом Советском Союзе в свои четырнадцать лет я встретился с историей искусств, то обнаружил, что маньеризм — ругательное слово. Поэтому я и решил заниматься только им. Мой диплом должен был называться «Иконография золотого века в эпоху маньеризма», но мне запретили, заменив «маньеризм» на «итальянское искусство XVI века».
Чем так пугало это слово работников культуры СССР?
Ядовитостью, которая в нем заключена. Маньеризм антиклассичен, соответственно, нездоров, декадентен, а социалистическому обществу декаданс был чужд.
Понятно, что для юного человека в этом были вызов и определенный снобизм. Когда плод перестал быть запретным, вы не разочаровались?
Не то чтобы разочаровался. Скорее, охладел. Маньеризм уже не так меня тревожит, как раньше. (Смеется.) Но Понтормо гений. Он просто большой художник, хоть маньеристом назови его, хоть нет. И он продолжает оставаться моим любимым.
Вашу книгу может читать как тот, кто ничего не знает о Понтормо, так и тот, кто вопросом интересуется, и такой пластичный текст для искусствоведческой литературы редкость. Как вы над ней работали?
Моя книга не архивная, а кабинетно-литературная. Я так ее и задумывал, в том числе нашел ход с интертекстуальностью. Я стараюсь писать доступно и по своему опыту вижу, что заинтересовать читателя можно. Об искусстве часто говорят либо сухо и скучно, либо очень сложно и не по делу, так что и слушать неохота, и смотреть становится тошно. Я недавно двенадцатилетних детей водил по Эрмитажу, и они меня спросили, почему у всех святых такие постные лица. Я подумал, что о культуре мы говорим по большей части именно с такими лицами.
В своей книге «Якопо да Понтормо. Художник извне и изнутри» Аркадий Ипполитов подробно комментирует два текста: главу о Понтормо из «Жизнеописания прославленных живописцев, скульпторов и архитекторов» Джорджо Вазари и короткие дневниковые записи самого художника, начатые им за три года до смерти.
А что вы ответили, кстати?
Стали разбирать картины, и оказалось, что постные лица далеко не у всех. На иконах такое выражение — признак отрешенности и отвлеченности, зато обратите внимание, какие хулиганистые ангелы есть в Ренессансе и барокко.
В конце прошлого года вы поучаствовали в создании еще одной книги: для сборника эссе кинокритика Александра Тимофеевского «Весна Средневековья» в издательстве «Сеанс» вы выступили бильдредактором, сопроводив тексты иллюстрациями из живописи.
Да, более того, скоро будет второй том. Это очень тонкая книга о кино, я ее всем советую прочитать. Работа была сложная, но кинематограф всегда был моим параллельным увлечением. Кстати, автор одной из самых эпохальных монографий о маньеризме Арнольд Хаузер был, в первую очередь, специалистом по кино. К тому же с Тимофеевским, как и с основателем журнала «Сеанс» Любой Аркус, меня связывает личная дружба, кстати, она первый человек, заказавший мне печатный текст — он был о кино.
Изменились ли со временем ваши кинематографические вкусы? Что повлияло на ваш визуальный опыт?
Мои самые любимые фильмы — бунюэльевское «Скромное обаяние буржуазии», «Большая жратва» Марко Феррери и, конечно, «Повар, вор, его жена и ее любовник» Питера Гринуэя, трахнувший когда-то меня по мозгам. Мне страшно нравится обращение с культурой этого режиссера, он был абсолютнейшим образцом для меня. Его старые выставочные проекты до сих пор вызывают у меня полный восторг, и хотя в фильмах я стал сильно чувствовать его занудство, мне они все равно нравятся. «Ночной дозор», «Рембрандт. Я обвиняю!» и «Гольциус и Пеликанья компания» просмотрены не один раз. Конечно, вкусы меняются: как-то в детстве я увидел документальный фильм о Венеции, перевернувший мое сознание. Я смотрел его, наверное, столько же раз, сколько и «Скромное обаяние буржуазии». Но когда недавно я его снова нашел, то он не произвел уже никакого впечатления, я просто не смог его увидеть теми глазами. Знаете, в коммунальной квартире, где я рос, соседка-бухгалтерша тетя Лена ходила в «бриллиантовой» диадеме, и я ее считал самой прекрасной в мире.